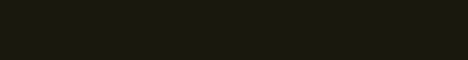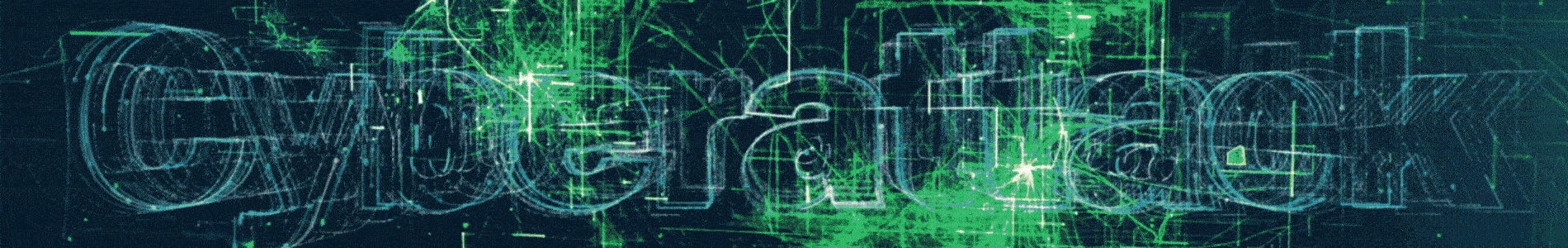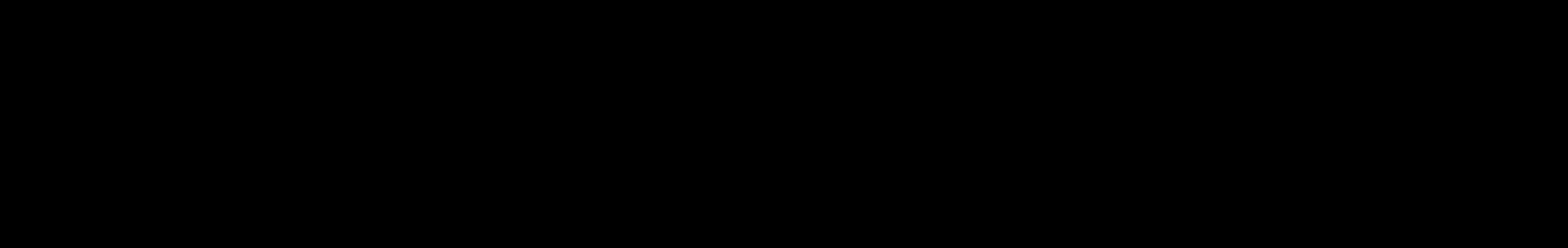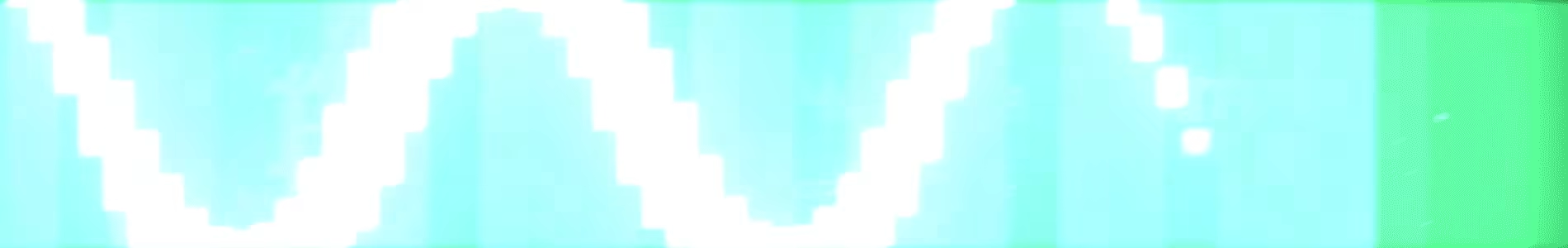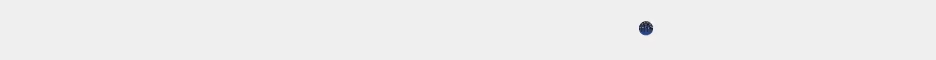Серия 1, год 1888: как крестьянин деревни Митрофановки жену «за строптивость характера» убил
«На трупе сарафан, лапти, медный крест»
Вечером 26 июня 1888 года крестьяне деревни Митрофановки (теперь ее, как и деревни Камардиновки, которая будет упоминаться далее, не существует; на карте можно найти «урочище Митрофановка» и «урочище Камардиновка» – небольшие площадки в Александровском районе Оренбургской области) ловили рыбу в реке Ток. Один из мужиков, по фамилии Бондарев, увидал, что по центру реки медленно плывет какой-то большой пестрый предмет.
Бондарев подгреб к нему и обнаружил, что это женское тело. Его выволокли на берег и побежали за начальством – деревенским старостой. Тот в свою очередь послал за полицией. Прибывший урядник (нижний чин уездной полиции, выполнявший тогда функции нынешнего участкового) по фамилии Носов «при первоначальном внешнем осмотре» установил следующее:
Для опытного полицейского картина была совершенно ясна: женщину долго и сильно били, и по лицу, и по туловищу, а после задушили. «Небольшую полоску» на шее нынешние сыщики называют странгуляционной бороздой, это след от веревки или ремня…
Личность погибшей была установлена сразу же: мужики, рыбачившие на реке, немедленно «признали в ней жену однодеревенца Арсения Ковынцева – Прасковью».
«Непредвиденно, в один момент, я стал несчастный!»
С берега реки урядник Носов отправился в деревню. В избе Ковынцевых он застал всю семью: 25-летнего Арсения, мужа погибшей, его отца Максима и мать Феклу. Те начали юлить, «отозвались полным незнанием обстоятельств ея смерти»: говорили, что не знают, куда подевалась Прасковья; как, мол, с утра исчезла неведомо куда, так и нет ее... Но урядник еще на берегу поговорил с местными жительницами, которые заявили, что видели, как Максим отправлял сноху в поле, к Арсению, косившему там сено. Свекр попался на вранье.
Тогда урядник потребовал предъявить ему одежду, в которой Арсений, муж Прасковьи, работал в поле. Фекла принесла серую рубаху, но урядник опять-таки заранее разузнал у мужиков, что сено он косил в белой. Когда урядник произвел беглый обыск (долго ли обыскать крестьянскую избу?) и нашел ту самую, белую, рубашку, на ней обнаружилось небольшое кровавое пятно. Фекла, выгораживая сына, принялась было кричать, что рубаха взялась неведомо откуда, не было такой у Арсения, но ее никто не послушал. К тому же в кармане Арсениевых портков нашелся обрезок старой веревки – пожалел ее, не стал выбрасывать орудие убийства. Невероятная циничность в комбинации с хозяйственностью: ну и ладно, мол, что жену ею душил, хорошая же веревка, вдруг да пригодится?
Дальше отпираться смысла не было. Арсения взяли под стражу и доставили в Оренбургский тюремный замок. Он все-таки пытался приуменьшить свою вину: заявил, что убил супругу, которая изначально отличалась «строптивостью характера», нечаянно, одним слишком сильным ударом кулака. Показания с его, неграмотного крестьянина, слов, писал адвокат. Видимо, этим объясняется неуместная возвышенность слога. Впрочем, понять, на что рассчитывал обвиняемый, по этим витиеватостям можно:
Полицейские снова поехали в Митрофановку и принялись опрашивать соседей.
В ходе следствия выяснилось, что за 2 года до смерти она решила обратиться в суд. Однако тогда хода этому документу не дали. Причина: «вследствие непредставления законных пошлин». То есть у Прасковьи банально не было денег на правосудие… Уже после ее смерти, однако, заявление это было подшито в папку с уголовным делом.
Судя по тому, что документ за Прасковью писал грамотный крестьянин деревни Камардиновки, было это, когда она сбегала от мужа к отцу. Приведем текст полностью и, по возможности, без правок.
Обращение Прасковьи в суд, написанное за 2 года до убийства
Его Высокородию Господину мировому судье 7 участка Оренбургскаго уезда, Димитриевской волости, деревни Митрофановки. Крестьянки Прасковьи Акимовой Ковынцевой всепокорнейшее прошение.
Отец мой родной, Аким Исаев Мажоров, одной волости деревни Камардиновки, выдал мене в замужество в 1884 года [за] казеннаго крестьянина Арсентия Максимова, тоже Ковынцева. Муж мой законный на себе взял дерзкий трактяр [характер?], самый расслабленный повод, нехристианский образ. Постоянно бьет, мучит, хлеба мне не дает, всячески уграживает. В жизни по случаю крайнего мене стеснения ныне я, Прасковья, изъявляю на бумаге жалобу.
Во все [время] мирно я мужа обувала, одевала, два года. А он постоянно делает мне оскорбление без всякой причины, навлекает всякую клевету. Первый раз бил, покушался на жизнь мою в поле на дороге. 1886 года января 3 дня [мимо] ехал [из] деревни Михайловки Яков Васильев Жарков. 2 раза бил покушался на жизнь мою января 6 дня с позволения родителей – отца Максима Родионова, матери Феклы Андреевой, [и] сестра его, солдатка-бродяга Марья Максимова, били 3 раза уздою, покушались на жизнь мою. Января 9 дня 4 раза били, покушались на жизнь мою. Января 21 дня призывали священника села Добринки, [он] мене Прасковью исповедал, приобщил [причастил перед смертью]. Я священнику объявила, [что] мене все семейство било 5 раз, били, покушались на жизнь мою.
Сию ночь били всячески немилосердно, за волосы вытащили, из двора согнали, как скотину, пешею, раздевши. Я за двором в сене ночевала…
Мое движимое имущество доброе – укладка [т. е. сундук] крашеная – сохраняется замкнутая у мужа моего, и ключ при нем, у Арсентия Ковынцева. Стоит 5 руб. серебром. [Там хранится] шубка камлотовая, стоит 10 руб. серебром; зипун, стоит 5 руб. серебром; платок коричневый, стоит 1 руб. серебром; 6 скатертей, стоят 4 руб. 80 коп. серебром; 6 рушников, стоят 1 руб. 80 коп. серебром; 4 подушки – одна долгая [длинная], 3 маленькия – стоят 6 руб. серебром; одеяло теплое суконное клетчатое, стеганное, стоит 5 руб. серебром; 5 попон – одна суконная, 4 воловыя [для волов, т.е. быков – суконная, очевидно, для лошади], стоят 4 руб. серебром; полтора холста, стоят 4 руб. 20 коп. серебром; серьги серебрянныя, стоят 60 коп. серебром; юбка кисейная, стоит 80 коп. серебром; берда [ткацкий станок] десятная, стоит 50 коп. серебром; нитки, два фунта, стоят 1 руб. серебром; онучи [обмотки под лапти] стоят 1 руб. серебром; сошники железныя новыя, стоят 1 руб. серебром; овса брал на семена 10 мер, ячменю 5 мер, гречихи 3 меры – стоят 6 руб. серебром; образ [икона], родительское благословение, стоит 3 руб. серебром. Всего на сумму 65 руб. 20 коп. серебром.
В чем, Ваше Высокородие господин мировой судья, всепокорнейше прошу прошение мое принять, с Вашей стороны сделать мне защиту: самыя ваше зависещая законныя распоряжения вызвать на суд деревни Митрофановки крестьян Максима Родионова и жену его Феклу Андрееву и дочеря его Марью Максимову, и мужа моего Арсентия Максимова Ковынцевых. Сделать разбирательства, так как они мене, Прасковью Акимову, били и увечили безо всякой причины, хлеба не давали, из дома, из двора согнали раздетую, а движимое имущество мое доброе не отдали. С виновными поступить по закону; сие мое движимое имущество доброе отобрать, предоставить мне на руки, или во уплату 65 руб. 20 коп. серебром [выплатить] Прасковье Акимовой, по отцу Мажоровой, по мужу Ковынцевой. Этим вы самым мне окажете свою милость и удовлетворение мне, Прасковье Ковынцевой.
К сему прошению вместо ея по безграмотству, по личной просьбе, деревни Камардиновки Филипп Григорьев Филатов руку приложил.
«Понизить наказание ввиду неразвитости и грубости нравов»
Собственно, на этом расследование уголовного дела было завершено. Картина стала абсолютно ясной: выданная замуж за крестьянина из соседнего села (сколько лет ей было, в деле не упоминается; известно, однако, что на момент вынесения приговора мужу ее исполнилось 25, то есть женился он в 21 год – невеста, вероятно, была еще моложе), крестьянская дочь Прасковья Мажорова стала подвергаться издевательствам.
Уж в чем выражалась «строптивость» ее характера, неизвестно, но наказывали ее сурово: били чем попало, в том числе хлестали ременной уздой, таскали за волосы; морили голодом; выкидывали раздетой на снег, так что ей приходилось ночевать в стогу сена, а потом, чтобы не околеть в сугробах, бежать к отцу (расстояние между уже не существующими деревнями Митрофановкой и Камардиновкой можно вычислить по современным спутниковым картам – по прямой получается 6 километров, по нынешним дорогам – все 8). В конце концов молодой супруг вызверился настолько, что избил ее, привязав к телеге, и задушил веревкой… Жуть кромешная; но, судя по свидетельствам классиков литературы («Житие одной бабы» Лескова), в России того времени такое отношение к женщине было распространено достаточно широко.
Что же случилось с убийцей, Арсением Ковынцевым? Приведем фрагмент приговора, вынесенного 31 августа 1888 года:
Осужденный Ковынцев, ожидая в Оренбургском тюремном замке этапа в Сибирь, еще пытался добиться смягчения приговора и просил по истечении 10 лет каторги позволить ему вернуться к «престарелым родителям», у которых он единственный сын, но прошение его было отклонено.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
, совершенных в давно прошедшие времена. Для этого мы будем использовать уголовные дела, хранящиеся в Оренбургском областном архиве. Менялись времена, менялись декорации; переписывались законы, а «Палату уголовнаго и гражданскаго суда» сменял революционный трибунал… Но люди, в сущности, всегда оставались теми же. И в каждом преступлении, хоть 100-летней, хоть 150-летней давности, можно найти что-то современное и актуальное. Итак, читайте первую часть нашего детективного ретросериала.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
«На трупе сарафан, лапти, медный крест»
Вечером 26 июня 1888 года крестьяне деревни Митрофановки (теперь ее, как и деревни Камардиновки, которая будет упоминаться далее, не существует; на карте можно найти «урочище Митрофановка» и «урочище Камардиновка» – небольшие площадки в Александровском районе Оренбургской области) ловили рыбу в реке Ток. Один из мужиков, по фамилии Бондарев, увидал, что по центру реки медленно плывет какой-то большой пестрый предмет.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
Бондарев подгреб к нему и обнаружил, что это женское тело. Его выволокли на берег и побежали за начальством – деревенским старостой. Тот в свою очередь послал за полицией. Прибывший урядник (нижний чин уездной полиции, выполнявший тогда функции нынешнего участкового) по фамилии Носов «при первоначальном внешнем осмотре» установил следующее:
Труп был одет в ситцевую рубаху, розовый сарафан и такой же фартук, в чулки и лапти; на голове был надет платок, на шее – медный крест. На трупе были усмотрены следующия повреждения: около обоих глаз – опухоль и синие знаки; правая щека заметно толще левой; губы немного вздутые; на шее заметна небольшая полоска; на левой ноге – царапина. На одежде трупа заметны следы крови. На левом боку на высоте 8 ребра кровоподтек вершка в диаметре; на обоих боках – несколько меньших кровоподтеков.
Из материалов уголовного дела
Для опытного полицейского картина была совершенно ясна: женщину долго и сильно били, и по лицу, и по туловищу, а после задушили. «Небольшую полоску» на шее нынешние сыщики называют странгуляционной бороздой, это след от веревки или ремня…
Личность погибшей была установлена сразу же: мужики, рыбачившие на реке, немедленно «признали в ней жену однодеревенца Арсения Ковынцева – Прасковью».
«Непредвиденно, в один момент, я стал несчастный!»
С берега реки урядник Носов отправился в деревню. В избе Ковынцевых он застал всю семью: 25-летнего Арсения, мужа погибшей, его отца Максима и мать Феклу. Те начали юлить, «отозвались полным незнанием обстоятельств ея смерти»: говорили, что не знают, куда подевалась Прасковья; как, мол, с утра исчезла неведомо куда, так и нет ее... Но урядник еще на берегу поговорил с местными жительницами, которые заявили, что видели, как Максим отправлял сноху в поле, к Арсению, косившему там сено. Свекр попался на вранье.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
Тогда урядник потребовал предъявить ему одежду, в которой Арсений, муж Прасковьи, работал в поле. Фекла принесла серую рубаху, но урядник опять-таки заранее разузнал у мужиков, что сено он косил в белой. Когда урядник произвел беглый обыск (долго ли обыскать крестьянскую избу?) и нашел ту самую, белую, рубашку, на ней обнаружилось небольшое кровавое пятно. Фекла, выгораживая сына, принялась было кричать, что рубаха взялась неведомо откуда, не было такой у Арсения, но ее никто не послушал. К тому же в кармане Арсениевых портков нашелся обрезок старой веревки – пожалел ее, не стал выбрасывать орудие убийства. Невероятная циничность в комбинации с хозяйственностью: ну и ладно, мол, что жену ею душил, хорошая же веревка, вдруг да пригодится?
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
Дальше отпираться смысла не было. Арсения взяли под стражу и доставили в Оренбургский тюремный замок. Он все-таки пытался приуменьшить свою вину: заявил, что убил супругу, которая изначально отличалась «строптивостью характера», нечаянно, одним слишком сильным ударом кулака. Показания с его, неграмотного крестьянина, слов, писал адвокат. Видимо, этим объясняется неуместная возвышенность слога. Впрочем, понять, на что рассчитывал обвиняемый, по этим витиеватостям можно:
Разумеется, следователя эти объяснения никак не устраивали, и дело вовсе не в цветастости адвокатской речи. Во-первых, если удар был один, почему синяков по всему телу – десятки? Во-вторых, откуда взялась та полоска на шее (кстати, доктор, производивший вскрытие, однозначно заявил, что причина смерти – асфиксия, то есть удушение)?Часов в 8 или 9 пришла на покос жена Прасковья Акимова [т. е. Акимовна] грести сено и принялась за работу. Во время работы я заметил ей, что она не чисто гребет, на что она ответила: «Как хочу, так и гребу». После этого я опять сказал ей: «Травы плохие, греби почище». На что она, изругавшись, бросила грабли и не стала работать. Я подошел к ней и ударил ее рукою по щеке. Удар рукою моею попал в висок. Жена моя упала и тут же умерла. Эта минута в моей жизни, в которую я погорячился, ударив жену мою, рок судьбы моей. Непредвиденно, в один момент, я стал несчастный: лишился жены и [теперь] привлечен к уголовной ответственности. Я, видя такую моментальную смерть жены моей, испугался, был вне себя, не знал, что делать. Я поднял жену, положил в телегу, отвез за полверсты к реке, положил в воду, а сам отправился домой.
Из показаний Арсения Ковынцева
Полицейские снова поехали в Митрофановку и принялись опрашивать соседей.
Разговор с жителями Митрофановки вообще дал следствию много информации. Оказалось, избиение это было далеко не первым и уж точно не случайным.В дело вступили указания, что в день смерти Ковынцевой муж ея привязывал ее к колесу [телеги] и бил, что видела какая-то девочка, но последняя осталась неразысканной.
Из материалов уголовного дела
Более того: оказалось, за 4 года семейной жизни Прасковья дважды убегала из семьи мужа к отцу, в соседнюю деревню, но потом возвращалась – и снова была страшно бита. Почему возвращалась? Может, потому, что боялась осуждения со стороны односельчан – как так, мужняя жена, а живет отдельно? А может, жалела приданого, которое осталось в доме свекра. Нам это сейчас может показаться странным: как так, из-за каких-то подушек да одеял, из-за жалких тряпок, терпеть ежедневные издевательства? Но тогда это воспринималось совершенно иначе. Люди жили, мягко говоря, небогато, и эти несчастные подушки – единственное, что вообще было у Прасковьи Ковынцевой…С самого выхода в замужество жила она с мужем плохо, несколько раз подвергалась побоям и истязаниям. Свидетельница Надежда Мартынова удостоверила, что, живя по соседству с Ковынцевыми, она встречалась с покойною, которая не раз просила у нея хлеба, говоря, что она ничего не ела. Аким, Матрена и Григорий Мажоровы – отец, мачеха и брат покойной – объяснили, что с нею в доме мужа обращались в высшей степени дурно, в особенности муж и свекровь, били ее, и однажды избили так сильно, что была при смерти и исповедовалась [т. е., готовясь к смерти, каялась священнику в грехах].
Из материалов уголовного дела
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
В ходе следствия выяснилось, что за 2 года до смерти она решила обратиться в суд. Однако тогда хода этому документу не дали. Причина: «вследствие непредставления законных пошлин». То есть у Прасковьи банально не было денег на правосудие… Уже после ее смерти, однако, заявление это было подшито в папку с уголовным делом.
Судя по тому, что документ за Прасковью писал грамотный крестьянин деревни Камардиновки, было это, когда она сбегала от мужа к отцу. Приведем текст полностью и, по возможности, без правок.
Обращение Прасковьи в суд, написанное за 2 года до убийства
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
Его Высокородию Господину мировому судье 7 участка Оренбургскаго уезда, Димитриевской волости, деревни Митрофановки. Крестьянки Прасковьи Акимовой Ковынцевой всепокорнейшее прошение.
Отец мой родной, Аким Исаев Мажоров, одной волости деревни Камардиновки, выдал мене в замужество в 1884 года [за] казеннаго крестьянина Арсентия Максимова, тоже Ковынцева. Муж мой законный на себе взял дерзкий трактяр [характер?], самый расслабленный повод, нехристианский образ. Постоянно бьет, мучит, хлеба мне не дает, всячески уграживает. В жизни по случаю крайнего мене стеснения ныне я, Прасковья, изъявляю на бумаге жалобу.
Во все [время] мирно я мужа обувала, одевала, два года. А он постоянно делает мне оскорбление без всякой причины, навлекает всякую клевету. Первый раз бил, покушался на жизнь мою в поле на дороге. 1886 года января 3 дня [мимо] ехал [из] деревни Михайловки Яков Васильев Жарков. 2 раза бил покушался на жизнь мою января 6 дня с позволения родителей – отца Максима Родионова, матери Феклы Андреевой, [и] сестра его, солдатка-бродяга Марья Максимова, били 3 раза уздою, покушались на жизнь мою. Января 9 дня 4 раза били, покушались на жизнь мою. Января 21 дня призывали священника села Добринки, [он] мене Прасковью исповедал, приобщил [причастил перед смертью]. Я священнику объявила, [что] мене все семейство било 5 раз, били, покушались на жизнь мою.
Сию ночь били всячески немилосердно, за волосы вытащили, из двора согнали, как скотину, пешею, раздевши. Я за двором в сене ночевала…
Мое движимое имущество доброе – укладка [т. е. сундук] крашеная – сохраняется замкнутая у мужа моего, и ключ при нем, у Арсентия Ковынцева. Стоит 5 руб. серебром. [Там хранится] шубка камлотовая, стоит 10 руб. серебром; зипун, стоит 5 руб. серебром; платок коричневый, стоит 1 руб. серебром; 6 скатертей, стоят 4 руб. 80 коп. серебром; 6 рушников, стоят 1 руб. 80 коп. серебром; 4 подушки – одна долгая [длинная], 3 маленькия – стоят 6 руб. серебром; одеяло теплое суконное клетчатое, стеганное, стоит 5 руб. серебром; 5 попон – одна суконная, 4 воловыя [для волов, т.е. быков – суконная, очевидно, для лошади], стоят 4 руб. серебром; полтора холста, стоят 4 руб. 20 коп. серебром; серьги серебрянныя, стоят 60 коп. серебром; юбка кисейная, стоит 80 коп. серебром; берда [ткацкий станок] десятная, стоит 50 коп. серебром; нитки, два фунта, стоят 1 руб. серебром; онучи [обмотки под лапти] стоят 1 руб. серебром; сошники железныя новыя, стоят 1 руб. серебром; овса брал на семена 10 мер, ячменю 5 мер, гречихи 3 меры – стоят 6 руб. серебром; образ [икона], родительское благословение, стоит 3 руб. серебром. Всего на сумму 65 руб. 20 коп. серебром.
В чем, Ваше Высокородие господин мировой судья, всепокорнейше прошу прошение мое принять, с Вашей стороны сделать мне защиту: самыя ваше зависещая законныя распоряжения вызвать на суд деревни Митрофановки крестьян Максима Родионова и жену его Феклу Андрееву и дочеря его Марью Максимову, и мужа моего Арсентия Максимова Ковынцевых. Сделать разбирательства, так как они мене, Прасковью Акимову, били и увечили безо всякой причины, хлеба не давали, из дома, из двора согнали раздетую, а движимое имущество мое доброе не отдали. С виновными поступить по закону; сие мое движимое имущество доброе отобрать, предоставить мне на руки, или во уплату 65 руб. 20 коп. серебром [выплатить] Прасковье Акимовой, по отцу Мажоровой, по мужу Ковынцевой. Этим вы самым мне окажете свою милость и удовлетворение мне, Прасковье Ковынцевой.
К сему прошению вместо ея по безграмотству, по личной просьбе, деревни Камардиновки Филипп Григорьев Филатов руку приложил.
«Понизить наказание ввиду неразвитости и грубости нравов»
Собственно, на этом расследование уголовного дела было завершено. Картина стала абсолютно ясной: выданная замуж за крестьянина из соседнего села (сколько лет ей было, в деле не упоминается; известно, однако, что на момент вынесения приговора мужу ее исполнилось 25, то есть женился он в 21 год – невеста, вероятно, была еще моложе), крестьянская дочь Прасковья Мажорова стала подвергаться издевательствам.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
Уж в чем выражалась «строптивость» ее характера, неизвестно, но наказывали ее сурово: били чем попало, в том числе хлестали ременной уздой, таскали за волосы; морили голодом; выкидывали раздетой на снег, так что ей приходилось ночевать в стогу сена, а потом, чтобы не околеть в сугробах, бежать к отцу (расстояние между уже не существующими деревнями Митрофановкой и Камардиновкой можно вычислить по современным спутниковым картам – по прямой получается 6 километров, по нынешним дорогам – все 8). В конце концов молодой супруг вызверился настолько, что избил ее, привязав к телеге, и задушил веревкой… Жуть кромешная; но, судя по свидетельствам классиков литературы («Житие одной бабы» Лескова), в России того времени такое отношение к женщине было распространено достаточно широко.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
Что же случилось с убийцей, Арсением Ковынцевым? Приведем фрагмент приговора, вынесенного 31 августа 1888 года:
Подсудимый Арсений Ковынцев 26 июня с. г. без обдуманного заранее намерения, однако ж умышленно лишил жизни свою жену. Палата находит, что совершенное им деяние по признакам своим представляет преступление, предусмотренное 1 ч. 1455 ст. Уложения, карающего виновных по 3 степени 19 ст. Уложения. Но в данном случае сие нормальное наказание ввиду убийства подсудимым своей жены должно быть возвышено на 1 степень – таким образом, до 2 степени. При этом Палата признает справедливым, ввиду неразвитости и грубости нравов подсудимого, наказание понизить на две степени и назначить по 4 степени, то есть сослать в каторжныя работы на 10 лет, а затем поселить его в Сибири навсегда. Судебныя издержки возложить на осужденнаго.
И.К. Максимович
Председатель Оренбургской палаты уголовнаго и гражданскаго суда
Осужденный Ковынцев, ожидая в Оренбургском тюремном замке этапа в Сибирь, еще пытался добиться смягчения приговора и просил по истечении 10 лет каторги позволить ему вернуться к «престарелым родителям», у которых он единственный сын, но прошение его было отклонено.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация